Джун йон парк
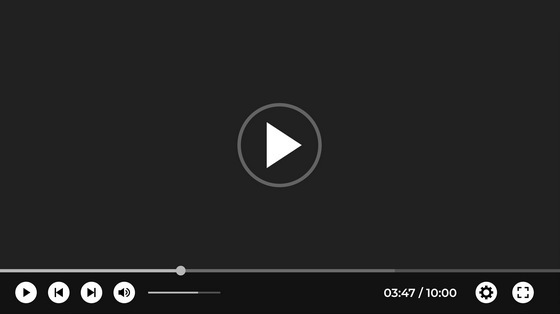
Помимо очевидной вторичности и интеллектуальной «неполноценности» фоторабот, построеных фактически на одном ходе голое тело — застывшая пена голубого цвета в разных ракурсах , вызывает удивление отказ автора от репрезентации своего обнаженного тела предположительно не менее соблазнительного. А моих попутчиков — где-то на полпути — поджидал рафтинг по реке Трисули. Прецедент двойничества с архетипом материнской структуры воплощается в практике куратора «Риджины» как его радикализация. Лабораторный монологический опыт «Война продолжается», инспирированный внешними силами, можно считать генеральной репетицией. Эстетика, понимаемая в первоначальном значении как восприятие, тесно связана с политикой.
Уведомления по матчам в мобильном приложении «Чемпионата». Пхохан Стилерс — Пусан Ай Парк. Последние игры.
Выступление в турнире Соотношение статистических данных команд. Александр Палочевич. Наказания Кан Мин Су. Составы команд. Главные тренеры. Статистика Пхохан Стилерс. Личные встречи. Тур 1 Тур 17 Пусан Ай Парк — Пхохан Стилерс. Тур 27 Пхохан Стилерс — Санджу Санму.
Осмоловского заложен принцип репрезентации тенденций в московском арт-процессе, а не отдельных маргинальных явлений. При очевидных недостатках новой галереи небольшое выставочное пространство, неудобное расположение она обладает и завидным преимуществом: гарантии издания качественного каталога к открытию выставки. Эта возможность значительно повышает конкурентоспособность. Однако первый же вернисаж поставил под сомнение заявленную стратегию галереи. Выбор М. Черниковой в качестве репрезентанта т.
Помимо очевидной вторичности и интеллектуальной «неполноценности» фоторабот, построеных фактически на одном ходе голое тело — застывшая пена голубого цвета в разных ракурсах , вызывает удивление отказ автора от репрезентации своего обнаженного тела предположительно не менее соблазнительного. Подобная «застенчивость» не позволяет вполне потенциально заложенный радикализм работ. Феминистский аналитик обьяснил бы эту застенчивость боязнью репрессивного «пожирающего» мужского взгляда, мне же представляется, что ее истоки в незаинтересованом безынициативном отношении автора к своим работам и, как следствие, к собственному статусу.
Складывается ощущение, что для М. Черниковой занятие искусством скорее хобби, а не профессиональная деятельность. Несмотря на первую неудачу, пожелаем кураторам и владельцу галереи успехов в будущих реализациях тем более, что заявленная программа крайне интересна. Последняя, что имплицирует само название группы «МГ», принадлежит уже не Культуре, но Телу Вынуждена начать с оправданий.

Дело в том, что на дискурсе Сергея Епихина я не говорю читаю со словарем и нахожу это серьезным недостатком для рецензента. Этот жанр требует помимо внешней обязательной оценки изнутри. Но предложенная Епихиным тема «О значении московского концептуализма в Москве в терминологии «телесного» перевод мой — Л.
Болезненно актуальной могу засвидетельствовать, что упоминание имени Кабакова Маргаритой Тупицыной в ЦДХ на конференции по поводу фотографии вызвало почему-то бурю недовольства.
Думаю, касаясь «тела» Бакштейна, Епихин знал, какие страсти хочет разбудить, и возбуждала его уверенность, понимал, что выбранное тело, «персонификат московского концептуализма», не утратило былой привлекательности.
А для художников и критиков, как известно, «нет ничего естественнее риска следовать маршрутами моды» см. Эти маршруты долго водили художников-поводырей и их московских критиков вокруг и около шизоидных приватностей, коллективного бессознательного, коммунального тела, бросали их от традиции пустоты к «традиции густоты» Е. Деготь , пока окончательно не прибили к «проблематике телесного, лежащей сегодня на одном из самых изъезженных путей» С. Представляя свой проект, куратор пишет: «Концептуальный дискурс со всей очевидностью продолжает быть элитарным языком современной культуры».
Метафизическое тело Бакштейна, таким образом, предъявляется нам как тело — носитель элитарной дискурсивности и объект для группового аффекта.
В моде на «телесность», как в любой моде, нет ничего дурного. Почему бы, действительно, не следить за модой? Когда модой злоупотребляют, она надоедает и сменяется другою. С такой частотой до последнего времени мелькал только «дискурс». Но налицо и серьезная проблема: как соотносится московская «телесность» с московской же «дискурсивностью».
И еще более серьезная проблема, как вообще соотносятся «язык» и «тело»? Подорога в беседе с Деррида, говоря о прозе Андрея Белого, так формулирует задачу-максимум его экспериментаторства — «не дать языку отойти от тела, все время держать язык вместе с телом, сдерживать хрупкую нить их референции, хотя это и кажется делом безнадежным». И Деррида соглашается: да, акоммуникативный слой вполне может быть способом, разновидностью коммуникации см. Любопытно, вспоминал ли эту беседу Подорога, заложник своих сократовских семинаров в ЦСИ, когда ученики то неожиданно обвиняли его в «фашизоидности дискурса», то вдруг начинали выдавливать друг другу глаза, экспериментируя с телесностью.
На московской сцене тело как дискурсивная единица таит в себе удивительные опасности, так что тема, предложенная Епихиным для «обсоса», определенно «фонит» как говорили в эпоху пламенеющего московского концептуализма. Не знаю, модно ли это сегодня. Актуальность предложенной темы подтверждается и вышедшим в свет первым номером журнала «Радек» модных московских «революционеров», где, уютно расположившись среди мириад всевозможных «тел» перечень их см.
В сгущенных парах этой «тучной» телесности прямой референт Бакштейна по ИСИ Обухова и косвенный «референт» Мизиано Осмоловский практика которого есть не что иное, как «локус телесной манифестации идеологии», по Епихину «реферируют» своих начальников, инсценируя что-то вроде разговора в людской «Наш-то, неплохой барин, все о новой этике, о новой эстетике говорит, только боится чего-то, не все понимает, и интриган Следует заметить, что в остальном сценарий «Радека» нигде не пересекается с епихинским — последний энергично и убедительно открестился от «персонажной» транскрипции своего проекта, считая этот акцент уже неуместным; «революционеров» же подобные мелочи не заботят.
Легкое скольжение по наезженным путям телесности на фоне «капризов коммуникации» на мониторе в XL беззвучный Епихин ритмично сменял беззвучного же Бакштейна и визг телефакса на поворотах этого экспозиционного бобслея в каталоге неожиданно обернулись вслушиванием в некую таинственную музыку «застывшую музыку» , то просто «добротную», то «изящную и выразительную».
Увы, мне не удалось услышать звуков этой музыки. Не знаю, как она соотносится с телеснодискурсивной проблематикой, но думаю, здесь нет повода для взаимных претензий. Музыка здесь — «личный прикол», как говорили при концептуализме. Готова принять претензии куратора по другому поводу.

Мне показалось, что на выставке «метафизическим телом Бакштейна, любезно выданным в краткосрочную аренду» Сергею Епихину, был этот самый факс, не совсем исправный и визжащий, поэтому концепция «отвердевания» Geistgeschichte в Korperqeschichte в моем представлении свелась к простенькой метонимии факс — Бакштейн , что меня ничуть не огорчило люблю литературные приемы.
И раз уж мне все равно не удалось написать рецензии изнутри структуры, заданной Епихиным, позволю себе последний личный прикол. Из всех исходов темы «язык и тело», «тело и дискурс» мне лично наиболее привлекательным кажется не музыкальный, а литературный исход. Скажем, метафорический, по Пепперштейну: «Если бы язык был зрячим, он видел бы мир из ложи, выглядывая из-за барьера зубов, из бархатно-слизистой роскоши своей полуоткрытой кабинки.
Однако язык слеп. Вместо зрения он обладает вкусом, потому его деятельность в ложе скатывается к критике В любви к литературе я не одинока, о чем свидетельствует пикантный «пухуастический» постскриптум галереи XL к проекту С. Епихина — история Пухуа. Пресловутые новые технологии в отечественном контексте мифологизируются ранее, нежели осмысляются как реальный инструментарий.
Попытки демифологизации не приводят к свободе манипулирования новыми возможностями, но еще больше замыкают их в поле заведомой недоступности и ненужности, аннулируют сам факт их пригодности и существования. Выставка Алексея Шульгина симулирует видеоинсталляцию при помощи фотографий, воспроизводящих фактуру телеэкрана и помещенных в рамы из настоящих панелей телевизоров.
Ход, осмысляющий и пародирующий заведомую плоскостность видео, кажется точным, но фрустрация, вызываемая этой выставкой, кажется, не входит в авторские интенции. Стоп-кадр на настоящем телеэкране, бывший элементом многих видеоинсталляций, воздействует на зрителя, за счет напряжения, усилия, удерживающего его на ощутимо текучей, не предназначенной для сохранения постоянного изображения поверхности.
Это усилие и придает ему ценность, а своеобразная мерцающая фактура, меняющаяся даже при неизменности наложенного на нее изображения — совершенно особую пластическую выразительность. Подмена изображения фотографией сообщает выставке какую-то дряблую муляжность, неподлинность самого жеста. Это аморфное отсутствие напряжения не позволяет оценить даже самостоятельную ценность часто очень красивых фотографий, замечательных, если бы они существовали в своем собственном качестве и на своей территории.
Сегодняшнее человеческое сознание определяется через телевизионное бытие. Эта виртуальная реальность, как сказал бы Сталин, «посильнее будет, чем «Фауст» Гете». Трудно не согласиться с почтенным восточным мыслителем, который и сам когда-то определял бытие.
Видимая в телевизионном ящике реальность более адекватна реальности, чем сама реальность. Мне кажется, об этом нам хочет поведать господин Воробьев.
Правда, способ, избираемый им, несколько оригинален. Пришедший на выставку зритель с радостью встретил на полотнах Воробьева полюбившихся героев известных картин старых мастеров. Это был парад образов, известных с детства. Единственное, что отличало картины Воробьева от классики, это художественный фон, данный автором для персонажей, — лунная поверхность. Перенесенные на естественный спутник Земли и транслируемые оттуда телевизионным воображением художника, эти «старые знакомые» производят гнетущее впечатление.
Луна — это open field человеческого сознания, чистый лист, мир без цивилизации. В этом очищенном, рафинированном вакууме предмет культуры становится метафизическим символом, способным только мерцать или тлеть. Лунный грунт не позволяет ему ужиться. Автор постоянно педалирует в своих работах имитации телевизионной трансляции. Это не мы видим добрую русскую красавицу, расчесывающую русую косу на фоне лунного Моря Ужаса.
Это некий оптический глаз лунохода или, в крайнем случае, Армстронга «вылупился» на девичьи прелести после бесплодных поисков жизни в космосе.

Прием эффектный, и он мог бы автономно существовать в пространстве галереи, однако автор пошел дальше хотя, по-видимому, лучше было бы остановиться — он уложил спираль из мятых холстов по центру выставочного зала. Это таинственное сооружение существовало лишь только для того, чтобы в момент, когда зрители покинут галерею, автор совершил свой нудистский акт. Название выставки «Артодоксальная экспансия» кажется слишком напыщенным, было бы лучше, если бы было что-то вроде «Ортодоксальной экспансии», тогда за всем этим стоял бы не продажный американский «арт», а русский высокодуховный «орт», с его православным героизмом, покоряющим даже лунные кратеры.
Вот где должны черпать свою силушку национальные художественные Святогоры. При всем том, Воробьев — явление цельное, вполне укладывающееся в московский художественный процесс. Он, как Шерстюк или Файбисович, работает в довольно сложном направлении, именуемом телереализмом. Мир видится художником через матовое дрожащее изображение телевизионной линзы. Вселенная, созданная сериалами и выпусками «Новостей», является благодарным художественным полигоном.
Еще один вопрос, который сквозит в работах Воробьева, это вопрос об отношении образа или предмета вообще и среды. У автора они живут в явной конфронтации — черные небеса космоса, такие естественные в лунных долинах, становятся антиобрамлением, Пустотой, возвышающейся над поделками цивилизации. Древний совет свободно позволяет выбрать форму отторжения Великий соблазн живописи в эпоху ее объявленного умирания капризным фантомом преследует художника классического типа — прежде незыблемая картинная форма покинула жанровые пределы и скользнула в нетрадиционную зону своего бытования, покинув недоуменного творца лессировок у разрушенной лестницы сюжетной иерархии.
Разрезание картины, как неожиданный кошмар, отнюдь не кощунственный акт сентиментального злодея и не homage Лючио Фонтана, но шикарная забава живописца, опасная игра с картиной, не претендующая, однако, на воскрешение библейских притч о «раздавшем достояние свое» и мрачном видении отрезанного уха безумного Винсента.
Художественная реакция, как некий умозрительный аппендикс чувств и эмоций, определена в традиционную плоскость холста, где коварный живописный лабиринт диагностирует невозможность иной формы социальной реализации автора. Хирургическое вмешательство Вахтангова — «нарыв вскрыт — больному легче» — не театральный жест актера, умирающего под занавес, но Essai фр.
Небольшой исторический экскурс в теорию и практику решительных взмахов легко докажет академичность живописного экстремизма. Ученики Ж. Давида в знак протеста против барочной истомы забросали хлебными мякишами картину А.
Ватто «Отплытие на остров Киферы», и Клод Моне, ведя бой на территории академизма, создал одноименный парафраз «Завтрака на траве», избрав профессорски-гигантский формат, но, убедившись в невозможности совмещения столь радикальных противоположностей, как настойчивая ловля момента и классичность формы, разрезал холст на несколько кусков, благополучно экспонируемых в разных музеях Не стоит опасаться, что кошмарный призрак художника с ножом из сферы единовременного действия перейдет к этапу постоянного функционирования, сделав подобные акции терапевтической процедурой в среде современных живописцев.
Вольные и невольные усекновения полотен «Ночной дозор» Рембрандта и прочие жертвы мании исправления , будучи произведенными в лоне фигуративной изобразительности, законно детерминированы как «варварство» и хрестоматийно осуждены благопристойной общественностью, тогда как плазматическая многовариантность абстракции, рулонный принцип композиции снимает с плеч присутствующих тяжкое бремя разрушителей Прекрасного и апеллирует к чувству гостеприимной хозяйки, разрезающей рождественский пирог.
Все в мире проходит — и в искусстве Нины Котел в едином ритме — стадии сжатия-расширения, входа-выхода, прилива-отлива. Ниагарский водопад превращается в поток воды на нашей кухне, а домашнее зеркало с шалями трансформируется в экзотический пейзаж, буддистскую страну, где способен затеряться и раствориться человек. Природа и наш близлежащий мир, макро- и микрокосмос, дышат, сокращаясь и расширяясь, как акустические резонаторы, изоморфно меняясь объемами на входе и выходе, обусловливая жизнь во всех ее проявлениях.
Концепция Нины Котел, как и ее образы, выходит за рамки чисто художественной акции. Перед нами диалектика жизни, где противоположные стороны то соединяются, взаимно тяготея, то разъединяются, взаимно отталкиваясь. Человеку, интегрирующему в себе зрителя, остается лишь понять, какую стадию переживает мир, окружающий его — прилива или отлива.
Инсталляция подобна тексту и олицетворяет позиции китайской «Книги Перемен». Может быть, в ней можно вычитать следующую фразу: «Великое отходит, малое приходит. Неблагоприятна благородному стойкость». Каждая представленная ситуация — неизбежный этап в процессе становления мира, и бессмысленно пытаться предотвратить какую-то стадию — следует действовать в соответствии с изначальным принципом.
Инь и Ян — художницы, взаимно проницаемые, присутствуют друг в друге и в каждом мгновении. Жесткое и холодное Инь — московская гроза — в предшествующей экспозиции «Безопасность», сокращается и теплеет, двигаясь в сторону Ян — интерьерных пейзажей с зеркальными пространствами, а мягкое и теплое, женское, интимное Ян, окутанное шалями, увеличивает свои размеры, тяготея к холодному и приближаясь к агрессивным стихиям Инь.
Эти образы соорганичны двуединой природе всего сущего, дискретного и волнового, непрерывного вода водопада и прерывного вспышки молнии одновременно. Это потенциал, который никогда не может быть реализован, но существование которого говорит о том, что возможности жизни и человека неисчерпаемы; идеальное непротиворечивое состояние — то, к чему мир устремлен, что заложено в его основе, но идет он к этому сложным путем.
Образ и мысль в инсталляции «Путешествия» не столько совпадают, сколько сцепляются формами, оставаясь открытыми для новых и новых сценок. Так создается непрерывность перетекания содержания из абстрактности в конкретность и новые возрождения универсальных смыслов: образ и понятие открываются друг другу неизвестными, неосвоенными сторонами, возрастая благодаря этой взаимной несводимости. Зрители упорно не хотели верить в реальность фото-видения — экспонаты были выполнены в технике цветной фотографии, действительно, странно: вот современный путешественник, отправляясь в турне, берет с собой фото- и видеокамеру и вспоминает о счастливых солнечных днях, перебирая фотографии в семейных складнях.
В складне, фрагментами размещенном на стенах, путешествующие не желали идти традиционным путем перебора фотооткрыток, а требовали живописи и зарисовок в альбом: и масляных шалей с зеркалами, и гуашевых молний, и акварельных водопадов. Трудно сказать, насколько сознательно художница использует прием обманутого ожидания.
Фотографии водопада и картин с молниями наклеены на небольшие планшетки «опасный мир», который заперт в маленьких коробочках, фиксирующих на своих крышках метафизические образы внутреннего содержания по принципу китайских миниатюр.
В этой ситуации равнозначны философские построения поиска пути и размышлений о месте человека в этом мире и игры, с техниками на основе привычных предметов, авторские манипуляции которыми стали просто виртуозными как доказали нам две прошедшие выставки. Обращаясь к живой для себе технике, автор заставляет зрителей искать все глубинные смыслы и уровни толкований.
Нина Котел открывает свой принцип дополнительности невозможный в формальной логике — одновременность покоя и движения. Модернистский способ мышления здесь явно отказывается действовать, уступая место новейшему нелинейному и многомерному сознанию.
Субстанция произрастает, выплывает из единого универсума. Буддистская природа неделима, не знает частей и противоречий.
Можно даже сказать, здесь отсутствует понятие «части»: любая часть «Путешествий» и «Безопасности» тоже есть целое, только иного размера и масштаба. Почти как у Анаксагора — идея «универсальной смеси» или «все есть во всем», но с небольшой постмодернистской поправкой: «одно во всем, или все в одном», сгущая акцент на приобщенности к Единому.
То есть каждая часть инсталляции — чистая фотография или квазиживопись, вспышки молний или комфортная домашняя экзотика — не только содержит в себе другие, но и само по себе приобщено к высшему началу. Все есть Будда — свидетельствует жительница Палихи, старой московской улочки, знаменитой своими пожарами и стремительными застройками.
Поэтому невозможно деление на части и размеры, жанры и техники, сложное и простое, естественное и искусственное. И то и другое не творится, но существует вечно, в разной мере выявляясь в мире феноменов. И мы не перестаем их наблюдать, удивляясь. Геннадий Воронов Присутствие Архитектурная галерея 26 февраля — 23 марта Своеобразие отечественной культуры состоит в том, что она в самой себе сосредоточивает те ценности, которые другими ареалами ввозятся извне.
В ней всегда присутствует естественная многомерность и между архаикой и самым радикальным жестом возникает особая теснота существования, глубина взаимодействия и динамическая сопричастность. Иконология вещи и пространственные архетипы, включенные в феномен кенотипического, футуристического освоения реальности стали концепцией и драматургией инсталляции Геннадия Воронова «Присутствие» в Архитектурной галерее, разработавшей в этой парадигме целостную интегральную программу.
В пограничной ситуации между обыденностью и сакральностью, художник задает вопросы, фундаментальные, но редко фиксируемые нашим сознанием: как Кантовская «вещь в себе» становится воплощенной реальностью в культуре и в быту; где проходит граница между ее функциональностью и «герметичностью»; какие она очерчивает топологические горизонты и как она освобождается, выбираясь на концептуальный простор? Художник возвращает нам доренессансный опыт контакта с миром, где ситуация в обыденной жизни имела свой аналог, тайну и значение в ином, мифическом плане действительности.
Геннадий Воронов актуализирует реликтовое сознание, соединяя и формируя материальное и духовное в единый пластический организм. Материал он понимает как первосущность, а произведение искусства как первообраз, как первый элемент архитектуры мира. Подобно доисторическому человеку, конструирующему мир из менгиров, открывающему впервые стол, стул, двери-ворота, Геннадий Воронов создает основные пространственные и пластические системы, принцип которых лишен временных координат.
Фактически в его пластике каждый раз возникает метафорой горизонт, архитектурное выражение того сценария, где происходит действие не только первобытного мифа, но и где заложены все современные пространственные мифологемы.
Стул Геннадия Воронова пластифицирует высоту —небо. Перед ним располагается незримая плоскость, где происходит жертвоприношение и разрываемый тотем представляется небом. Сесть на стул, на престол значит стать царем и оказаться в «столице», в сакральном пространстве, где снимается проблема размерности и отделенности пространства и времени.
В данном случае «стул» Геннадия Воронова воспринимается как сгущенное, «хайдеггеровское», внутреннее пространство художественного «текста-мифа». Этот «стул» уже появлялся в истории искусства — стул Ван-Гога, стул миссионера и аскета, выходящий за границы чисто эстетической видимости, где до навязчивости выпукло прочитывалась судьба художника.
Он преодолевает свою банальную инструментальность и трансформируется из объекта в субъект, в персонаж, в организм, транслируя новые возможности топологических модулей, «штампующих» и «членящих» жизнь как матричную структуру.
Манифестируя современную модель пространственных взаимоотношений, где пространство находит себе все новые и новые отражения и образы — стул Малевича, стул Шагала, стул Хуана Миро, то есть стул Творца, — пространственные архетипы Геннадия Воронова выходят за пределы самих себя, собственного контекста, вовлекая в сложный комплекс переживания и логосных потенций зрителя.
В этом смысле «стулья-персонажи» художника представляются как замыкания того, что было тогда — там — он с теперь — здесь — Я. Они таят в себе разные суммации сил, неожиданности и парадоксы, становятся взрывчатыми и эктропичными, синтезируя в себе особую зону энергии, разделяющую и соединяющую «небо и землю». Это, несомненно, поэтика вечных и неизменных начал, проходящих как катарсис через хаос и алогичность, ведущих, в конечном счете, к глубоко положительным и конструктивным результатам.
Вечное в искусстве Геннадия Воронова проявляется в ритмическом возвращении одних и тех же пространственных структур и ситуаций, генерирующих первосхемы бытия как пространственную единицу архитектуры мироздания, изоморфную нашей жизни и жизни космоса. Виктор Скерсис Талифа куми «L-галерея», Москва 25 декабря — 10 января Существуют темы, о которых в современной критике не принято говорить. В частности, это проблема взаимоотношения искусства и реальности, причем реальность в данном случае понимается не как контекст восприятия искусства или область отстраненной художественной рефлексии, а как среда или партнер неопосредованной интерактивности.
Такая постановка вопроса зачастую ощущается как нарушение артистического comme il faut, так как, помещая искусство между утилитарным оформлением повседневности дизайн и еще более запрещенной социальной практикой агитпроп , заставляет обращаться к низменному слою конкретности человеческого бытия. Однако, как кажется, отторжение подобной точки зрения происходит также потому, что так или иначе она связана с нежелательной сегодня, бессознательно табуированной, в московском контексте тематизацей этического, вовлекающей в пределы эстетических дискуссий различные понимания морали, иерархии ценностных категорий, социальной ответственности как частного художественного высказывания, так и искусства в целом.
Значимость подобного рода обсуждения, тем не менее, представляется неоспоримой. Прекрасным поводом для него может стать персональная выставка Виктора Скерсиса Талифа куми Восстань, дева , которая явилась продолжением проекта, посвященного роману Достоевского Братья Карамазовы.
Тематическим центром инсталляции была выбрана глава Великий инквизитор, в которой Иван Карамазов рассказывает Алеше поэму о сошествии Христа на землю во времена испанской инквизиции. Из названия выставки следует, что художник останавливает свое внимание на том моменте повествования, когда внезапно появившийся на базарной площади Христос воскрешает у дверей храма семилетнюю девочку, принесенную для отпевания.
С самого начала автор заявляет о наличии непосредственной связи инсталляции с определенным текстом. Более того, он включает в экспозицию объекты и изображения предметов, отсылающие как к ремеслу вообще, так и к его собственной практике, связанной с хирургией. Художник недвусмысленно эксплицирует высказывание, указав на реальность литературную и биографическую, и тем самым подставляет себя под удар упреков во всех представимых грехах, которые способен совершить современный творец — от иллюстративности, психологизма и пресловутой индивидуальной мифологии до покушения на священную могилу человека в искусстве.
Действительно, человек как субъект и объект творчества был изгнан со сцены искусства, в 20 веке бдительно охранявшего свою территорию от слишком человеческого.
Он утратил свою целостность, сохранив лишь некоторые функциональные свойства, маркированные в сферах социальности, гендера, расы, экономики, сексуальности и т. Здесь же автор осмеливается вновь допустить в пределы художественного произведения человека как полномочного представителя Реальности, составляющего ее основу и единственно способного исполнить роль физического, телесного свидетельства неотменяемой полноты бытия.
На мотиве возвращения человека может быть построено все прочтение метафоры Талифа куми, в которой антропологическое начало представлено источником, адресатом и, в конечном итоге, оправданием любой социальной практики, в том числе и практики искусства. В этой перспективе возникают совершенно иные оценочные законы. Открытый гуманистический пафос и нравственная сила художественного высказывания выводят за скобки интерпретации формальный приоритет, но именно этот акт нарушения внутренней этики искусства и представляется наиболее значимым в современной ситуации, в которой изощренные опыты репрезентации по сути демонстрируют лишь предельную степень истощения художественного языка, в нарциссическом порыве победившего смысл.
На подобном фоне трудно представить себе более криминальную и более бесстрашную претензию, чем та, что заявлена здесь как возможность замкнуть цепь реальность-человек-искусство и прорваться из мира подобий или, если угодно, симуляций, то есть всего эстетизированного мира гиперреальности в мир человеческой подлинности. Михаил Рогинский Коммунальная квартира «L-галерея», Москва 14—28 января Связь судьбы вещи с жизнью человека, ее включенность в круг его конкретных забот и привязанностей, глубокий смысл, таящийся в ее единичности — вот круг проблем, поставленных инсталляций М.
Рогинского в галерее «L». Лирическое значение подлинной и единичной вещи выпало из поля зрения современной культуры, в своей радикальности настроенной на процесс дезинтеграции «я»: лирическое традиционно развеществляется, а вещественное деперсонализуется, разрывая смысл и вещь.
Витрина и помойка — два крайних пункта, между которыми движется вещь, и именно эти два полюса интересуют современное искусство как принципы отчуждения вещи от человека. Михаил Рогинский нарушил запрет и прикоснулся к «срединному миру» существования вещей.
Художник приоткрыл кратковременный промежуток жизни вещи, скрытую длительность момента, где в своем част-ном опыте человек должен воссоздать ее целостную судьбу, восполнить ее прошлое и будущее — из настоящего. Середина и сердцевина вещи — ее пребывание в доме, понятом широко, как мир, как космос, обжитый человеком.

Вся она состоит из касаний, незримо формирующих ее сущность. Картины-объекты художника манифестируют не отдельность, внеположенность вещи человеку, а именно прикосновенность, сопутствие и органическое единство с ним.
Михаил Рогинский не скрывает своей задачи — расколдовать вещь, вызволить ее из отрешения и забытья, знаменуя душевно-телесную освоенность вещи, ее приобщенность к жизни. Инсталляция «Коммунальная квартира» заявляет о себе как опыт самосознания близлежащго мира и близлежащей культуры, выведенные за пределы частного быта в большой мир. Художник означивает не товарную цену вещи, как, например, это делает Хаим Стейнбах, а ее жизненную стоимость, тот смысл, который она приобрела для людей во время служения им.
Инсталляция-стена М. Рогинского предстает перед зрителем как непроницаемая завеса двух миров, с которой глядят сюда уходящие туда вещи. Картины-предметы оказываются на границе жизни и смерти, застывшие в нескончаемом ожидании или в нездешнем служении. Они как свежевылепленные маски, как мемориальный барельеф обращены к нам, в пространство галереи, напоминая о постоянном присутствии метафизики в нашей повседневности.
Мифология Рогинского открывает мир не в концептуальных понятиях, но в обыденной предметности, в конкретной вещественности, в «сниженной» реальности, где невозможны отчуждение и дистанцированная рефлексия, описывая и осмысляя скрытые и исчезающие измерения мира, выводящие нас к единой основе бытия. Его метапозиция индивидуальной памяти, аккумулирующей в себе мемориал вещей, непосредственно сближается с философией вещепричастности Р.
Рильке, осознавшем в начале нашего столетия трагическое преходящее вещи: «Мы, может быть, последние, кто еще знал такие вещи. На нас лежит ответственность за сохранение памяти о них Задача наша так глубоко, так страстно и с таким страданием принять в себя эту преходящую бренную землю, чтобы сущность ее в нас «невидима» снова восстала».
Все присущее ей когда-то, вынесенное из жизни и вновь внесенное в ее вещественную преображенность мыслью и чувством художника оказывается теперь здесь и указывает на ее вечное присутствие среди нас, выводя «тесноту» и энтропию коммунальной квартиры на метафизическую интегральность. Значение вещи в инсталляции Михаила Рогинского совпадает с ее собственным бытием, она становится, тем, что она значит, свидетельствуя не только о своем собственном существовании, но и о непреложности самого существования.
Когда у Поля Валери спросили, кто, по его мнению, крупнейший французский поэт, он ответил: «Гюго, helas!
Целкова трудно назвать крупнейшим русским живописцем, однако он относится к той породе художников, которых и любить нельзя, и игнорировать невозможно. Творчество Олега Целкова сродни медному шару, такое же яркое, цельнолитное и тяжеловесное. Найдя однажды своего персонажа и удачный способ его изображения, он с незначительными изменениями остается верен им всю жизнь.
Его герой не связан с глубокими эстетическо-философскими проблемами, поднятыми искусством шестидесятых, он, скорее, порождение активной в те годы публицистической тенденции. Одутловатые багрово-зеленые физиономии, лоснящиеся и лишенные каких-либо эмоций, покрытые бабочками или подвешенные на веревки — все это атрибуты чуть ли не первого мастера кича в советском нонконформизме. С течением времени и изменением внешней ситуации вещественные символы — романтические бабочки и веревки — сменились на более агрессивные, но прозаические вилки и лупы.
Но суть — облик героя — вот уже три десятилетия остается без изменения. Однако теперь то, что поначалу было публицистикой, шоком, теперь, когда каждый второй персонаж на московских улицах будто сошел с картины художника, стало больше походить на бульварную прессу, тяжеловесную, броскую, безвкусную и почти бессмысленную. В ретроспективной выставке эти качества выступают особенно четко.
Персонаж Целкова — редкий пример социального заказа в искусстве андеграунда шестидесятых. Его мир устроен таким образом, что отражает обслуживает определенный круг людей с особыми ментальными потребностями.
Это обстоятельство сделало Целкова одним из первых «коммерческих» художников, а типаж героя, более широкий, чем расхожие символы х, актуальным на протяжении десятилетий. Но вся эта стройная система настолько далека от норм и вкусов интеллектуальных и артистических кругов, что послужила поводом для популярности художника исключительно среди поклонников духовного кича.
Никита Алексеев Тяжесть и нежность «L-галерея », Москва 25 февраля — 5 марта Две луны Мартобря «XL-галерея », Москва 25 февраля — 5 марта Все-таки мумификация, музефикация Никиты Алексеева, нежный трепет интонаций в разговорах о нем — все заслуженно, грустно это или нет, но лучшего тельца приготовили мы для вернувшегося Никиты.
Обидно ведь, что другие не возвращаются. А Никита — столп, кит, вернулся. Его китовость и столповость хочется нагнетать и преувеличивать. Мумия, тайное сердце каждого музея, то, что не рассыпется во прах, то, что сохранив себя, переживет время, увы, то, что можно пожелать художнику, это даже не так обще, ведь были мумии молодых и красивых, так что, это не символ дряхлости.
Выставки Алексеева поддаются такому классическому описанию и анализу, что просто приятно выговаривать: тонкость перовых, почти монохромных рисунков, тяжесть висящих на веревках предметов грубого реального мира.
Короче, Никита хочет, чтобы к утюгу «приравняли перо», а дальше — вечная несоизмеримость. Слезы поэтического сознания автора, и, правда, пронизывают все, что он делает и ассоциации которые он вызывает, а признаки стихов на самой выставке явно отсылают на Дальний Восток, в Индокитай, родину московского романтического концептуализма. Собственно этот восточный привкус и объединяет две выставки, двух Лен, которые двоятся на небольшем просторе двумя латинскими L и X между ними.
Восхитительный каталог выставки в XL — это знак нашего нового состояния. Лучшее, что галерист может сделать для художника, кроме продажи конечно, это такой каталог, так изданный, с такими текстами, которые достаточно просто цитировать: «Вотивный диптих Алексеева навязчиво и тоже как бы аффектированно аллегоричен.
Символы беснословия и пророчества вполне узнали друг друга, раздувшись до масштабов лиро-эпической басни Выставка, так тонко связана с самой Леной Селиной, что из всех интерпретаций: про две луны, про традиционно расщепленое сознание, про ворону-галку, живущую и каркающую то в Париже, то в Москве и будущее России, я предлагаю очевиднейшую в имени Лены, Елены, Селены Селиной, света во мраке, яснее луны для греков, заключенную.
Никогда еще так тонко и артистически нежно не связывала у нас Выставка художника и куратора, и в этом радостная надежда на всеобщую любовь и понимание. Свободные мастерские Золото и пепел Школа современного искусства 26 февраля — 3 марта Руководители мастерской «Интердисциплинарных форм художественной активности и арт-проекта» В. Опара и Л. Ли Янг Ай Дебютная роль: , на Как ваш муж? Последняя роль: , на «Приведи меня домой как Юнг Йон». Ким Янг Ок Информация о первых ролях Ким Янг Ок в лучшем случае нечеткая, но сама актриса заявила в интервью, что ее дебютная драма была в году.
Однако первым доступным средством массовой информации о ее появлении на большом или маленьком экране является ее появление в году. Ким Янг Ок слева.